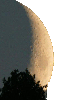 |
 |
 |
| Содержание | 12.03.10 |
2.8. История о том, как встретила войну семья Владимира Александровича Мелентьева,
брата Л.А., и как мы «драпали» от немцев из Бобруйска до Москвы
Передо мной фотографии, сделанные в Бобруйске 15 июня 1941 года. Воскресный день – до начала войны остается ровно неделя. Уютный домик на окраине города – как мы тогда предполагали, наше с мамой прибежище на все ее летние каникулы. Мирно разгуливающие по двору куры, петух, начинавший меня преследовать, как только я один оказывался на улице.
А здесь вот мы на пляже, и сами того не ведаем, что наслаждаемся последними денечками беспечной мирной жизни. Совсем еще молоденькая мама кормит меня с ложки кашей. А на этом кадре мы катаемся на лодке по полноводной тогда Березине. Воскресенье, но отца со службы не отпустили, и фотографии делает его сослуживец - Николай Александрович, как жалею, что забыл его фамилию. Он тоже инженер, и тоже, как и мой отец гидротехник, призванный на сборы на здешний военный аэродром. Но он намного старше моих родителей – ему уже под сорок!
Удивительно, но эта пленка пережила войну и непроявленная чудом сохранилась. Я обнаружил ее завернутой в черную защитную бумагу в конце 1940-х годов, когда уже школьником сам начал заниматься фотографией. Проявил, и вдруг передо мной стали возникать забытые и незнакомые мне люди из той нашей двухнедельной бобруйской мирной жизни. И многих из них, в том числе и снимавшего нас на Березине Николая Александровича, как сказал отец, давно уж не было на свете. Они погибли в первые же месяцы войны, а мы вот, по удивительному стечению обстоятельств, остались живы.
Через неделю здесь на берегах Березины все переменится и будет точно так, как напишет о дне начала войны Наталья Львовна, дочь Л.А., вспоминая причитания крестьянской женщины на хуторе под Лугой: «Налетели, бомбят, рушатся города, гибнут люди!».
Так было и у нас в нашем милом уютном Бобруйске. В первый же день, вернее, в первую же ночь, камня на камне не осталось от папиного аэродрома. Все сожгли и уничтожили немцы. И ни один наш самолет так и не поднялся в воздух – сгорели прямо на стоянках! Пострадал и город. Но толстые краснокирпичные стены казармы, в которой находился на дежурстве в ту ночь мой отец, выстояли. Как и многие другие могучие сооружения Бобруйского укрепрайона, создававшегося здесь после первого раздела Польши, выдержали налеты фашистской авиации. Так что и теперь стоит та отцовская казарма - я туда ездил недавно, чтобы посмотреть места, где мы были застигнуты войной.
22 июня 1941-го года - день трагический и достопамятный в истории России! Но, что же нам надо было делать тогда в то черное и страшное воскресенье? Неужели расставаться? Да, конечно, война! Но зачем уезжать? Хоть и близок Бобруйск к границе, но возле отца будет и спокойней, и надежней! Ведь, прекрасно знали - об этом тогда постоянно твердили, что если война и вдруг случится, то поведем мы ее, конечно же, на чужой территории! И еще нам говорили, если враг нападет, то войну мы закончим победно и быстро!
Счастье, что был с нами в тот день Николай Александрович - старший товарищ отца, сохранивший нам жизнь, но, к сожалению, не сберегший себя! Он буквально силой заставил нас собираться: «Уезжать! И немедленно! Ничего не поделаешь - придется расставаться!». И не просто спешить, а бежать со всех ног, торопиться, поскорее попасть на вокзал! А они оба с отцом, хотя и не одеты в военную форму, «подначальные» люди, и поэтому обязаны здесь оставаться, чтобы дожидаться приказа, что и как нужно действовать!
Много времени на сборы нам не потребовалось. В Бобруйск мы ехали налегке, так что весь наш багаж были мои детские вещи и мамины летние платья. И еще один небольшой, но важный штрих тех наших поспешных сборов в дорогу. Мама взяла с собой в Белоруссию кожаное пальто - красу и гордость ее скромного учительского гардероба. Вспоминаю об этом потому, что потом в эвакуации - в ту первую особенно голодную военную зиму, оказались мы с ней без копейки денег. И это мамино пальто и стало нашим единственным спасением.
Что творилось в то утро на Бобруйском вокзале, трудно передать словами! Опять вспоминаю рассказ Наташи, дочери Л.А., об их бегстве из Луги. Но думаю, что у нас было страшнее - на восток отсюда формировался лишь один единственный эшелон. И куда он пойдет и по какому маршруту направится, не знал никто – ни все эти люди, в растерянности толпившиеся на перроне, ни машинист паровоза, ни даже его начальство! О Ленинграде и думать было нечего! Предполагали, что поезд пойдет на Москву, но будет пробиваться к ней, так скажем, «окольными» круговыми путями. Взгляните на карту железных дорог России! Ветки, соединяющей напрямую эту часть Белоруссии со столицей России, нет и по сию пору!
Счастье еще, что отца отпустили со службы его военные начальники, чтобы он смог проводить нас. Однако все кассы на вокзале были закрыты, и билетов не продавали. Правда, и при посадке их тоже не требовали – так что состав брался штурмом, в полном прямом смысле этого слова. Каким-то чудом и неимоверным напряжением сил отцу все-таки удалось «запихнуть» в вагон мою маму! Но одну - без ребенка! Николай Александрович все это время мог лишь беспомощно наблюдать за действиями отца, оставаясь на перроне со мной на руках и с вещами.
Окна в тогдашних плацкартных вагонах открывались достаточно просто – они уходили вниз, если нажать посильнее на два брезентовых ремня, располагавшихся по обе стороны подвижной рамы. Правда, открывались они не полностью. И не всегда – узкие рамы также легко, как стронуть, можно было и перекосить, и заклинить. Но, если рама все-таки опускалась, то открытое пространство получалось довольно большим. Вот на это и рассчитывали мой отец и его старший товарищ. В тот раз на Бобруйском вокзале нам – нашей семье действительно «повезло». Окно стронулось с места и открылось! И в образовавшуюся щель я был успешно передан на руки маме в купе, набитое полностью - «под завязку»!
Папа и Николай Александрович, плотно сжимавший в руке наш чемодан, в отчаянии смотрели на старинные станционные часы, на нас, на сотни испуганных беженцев, выглядывавших из каждого вагонного окна, на наш паровоз, разводивший пары, и готовый, вот-вот, начать движение в неизвестность.
Представлялся ли моим родителям масштаб надвигавшейся на нас катастрофы? На счастье, думаю, что нет – ведь, они были еще так молоды! Но ужас момента, конечно же, они ощущали! Что будет дальше, когда тронется поезд? Когда встретимся мы теперь, и вообще - встретимся ли? И что будет, если немцы сейчас вернутся и снова налетят на город, на станцию и на наш поезд? Ведь, мы даже не сможем выбраться из вагонов!
Но, наконец, состав наш рванулся и тронулся. «Чемодан!» – в отчаянии вдруг вспоминает мама. От волнения они позабыли отдать нам «наши богатства». И в ту же - мной первым освоенную узкую «амбразуру» вагонного окна, но теперь уже на ходу поезда, им все же как-то удается протиснуть и мамины вещи. История с чемоданом отвлекла нас всех - и «провожающих, и провожатых», и своею нелепой обыденностью даже как-то всех успокоила, сгладив остроту и трагизм минуты расставания.
Город Быхов известен в российской истории своей знаменитой тюрьмой, в которую когда-то временное правительство поместило под арест цвет русского генералитета. Взгляните еще раз на карту России: от Бобруйска до станции Быхов – один перегон. Здесь и настигли нас немецкие самолеты!
Люди, однако, несмотря на всю переполненность наших вагонов, вели себя очень достойно и даже организованно. Паники не было. Наоборот - помогали друг другу освобождаться от тесных пут купе и коридоров. А вырвавшись «на свободу», на воздух – бросались по сторонам, врассыпную. Старались убежать куда-нибудь подальше и упасть, чтобы зарыться в землю, укрыться в любом понижении и в складке местности. Но народу было так много, а женщины и дети «просто» и не в состоянии были бежать «дальше и врассыпную», так что на привокзальной площади люди лежали вплотную друг к дружке, а в станционном сквере стояли группами, укрывшись под листвою деревьев!
О, немцы – великий, столь почитаемый мною народ, претендующий на звание самой образованной и самой культурной европейской нации. Однако, как быстро собрались они воедино после франко-прусской войны, забыв о своих прежних религиозных и «местечковых» конфликтах, чтобы двинуться на завоевание мира. В 1914-м году - под началом кайзера, а в описываемые времена - под знаменами их «бесноватого фюрера»!
Так за что же к нам русским, такая жестокость? Не понимаю, хоть есть и во мне, и в Л.А., как и во всех наших Мелентьевых, капля немецкой крови.
За что? Ведь, мы же не унижали Германию Версальским договором, и даже по предложению большевиков, мечтавших о «мировой революции», попытались подарить им по Брестскому миру почти полстраны. И все аргументы в свое оправдание за развязывание Второй Мировой войны «исполнявших свой долг» немецких генералов, что после Наполеона от французов все беды в Европе, и еще от того, что в 1917-м году в России мы приняли коммунизм, не состоятельны. Да, мы его приняли – точнее нам его навязали «огнем и мечом», так называемые, «интернационалисты ленинцы», захватившие на германские деньги здесь у нас власть и искоренявшие любое инакомыслие жесточайшим насилием и кровавой расправой над русским российским народом.
По французской части германских доводов мне возражать сложнее. Французы со свойственным им национальным высокомерием и, вправду, в течение Х1Х – ХХ веков много бед натворили в Европе и мире!
Мой норвежский друг Ян Аасер выговаривал мне как-то с упреком: «Копни глубже русского, обнаружишь в нем коммуниста! А немца даже чуть-чуть ковырни - найдешь там фашиста!». Соглашусь, в первой части фразы есть доля истины – любим мы общность людей и общинность коммуны. Так что марксизм-ленинизм пал на благодатную, подготовленную русским менталитетом почву! А со второй половиной его обвинений нам русским, быстро прощающим недругов, согласиться труднее. Но у них там в Норвегии иной менталитет и иное мышление. И у многих моих знакомых норвежцев и по сию пору имеются, мягко выражаясь, «претензии», к Германии, напавшей и на их страну тоже без объявления войны и сгубившей там тысячи жизней. Помню, как Ян запрещал мне показывать дорогу немцам, «заблудившимся» на автобусе в «стране фиордов». Причем «хорошим» - из Лейпцига, из бывшей нашей ГДР.
Тогда же на станции в Быхове немецкие летчики, ныне нами прощенные «герои» люфтваффе, летали, почти касаясь макушек берез, четко осознавая полную свою безопасность и безнаказанность. Ибо на сотни километров вокруг не было ни единого «красного ястребка», способного хоть как-то нас прикрыть и защитить нас. Они кружились над нами в воздухе как вороны и били в нас точно прицельно. Но не по вагонам, и не по паровозу и рельсам – в условиях российского бездорожья расчетливый германец сберегал все то, что может еще пригодиться для дальнейшего движения их армий в глубину России!
И мы их видели, и различали их лица, защитные очки и кожаные куртки. И немцы тоже нас прекрасно видели и выделяли наиболее приглянувшиеся им русские «мишени» - и высота была мала, да и скорости у самолетов в те годы были не такими уж и большими. Так что они, конечно, понимали, что все мы, распластанные здесь на земле, трепещущие перед ними, мирные гражданские люди. Но они стреляли в нас без жалости и почти без промаха. Промахнуться по сплошному живому человеческому ковру было «просто» невозможно. Мама моя вела себя классически по-матерински, прикрывала меня своим телом, стараясь прижать к земле, как можно плотнее, чтобы пилот не мог из своей кабины разглядеть и уничтожить ее ребенка! Память об этом дне и о том налете, не оставляла ее на протяжении всей жизни. И, думаю, что она и диктовала слова в том поздравлении ко Дню Победы, которое я приводил в начале очерка.
И все же каким-то чудом, но мы уцелели в той быховской кровавой мясорубке. Наверное, «просто» закончились патроны у бравых немецких ассов. И еще одним, и в самом деле, великим чудом и результатом «обыкновенного героического труда» обыкновенных людей из поездных бригад добрались все-таки и до Москвы. Я рассажу потом далее об одном таком герое машинисте, вывозивших людей из ленинградской блокады.
В Москве нас никто не ждал, так что на голову Александра Николаевича - отца Л.А. мы свалились нежданно и негаданно. И как же были все счастливы тогда. Не имея вестей из Белоруссии, наши родные и близкие уже отчаялись увидеть нас когда-нибудь живыми. Тогда в последних числах июня 1941-го мы видели А.Н. в последний раз. Опасаясь нового ареста, он жил отдельно от семьи, надеясь, что разводом сможет уменьшить «гнев» властей за столь «неудачное» свое происхождение.
Я успел спросить, кто же отсоветовал нам возвращаться в Ленинград. Ведь, Октябрьская железная дорога оставалась еще свободной. Оказалось, судьбу семьи брата определил Лев Александрович.
Задумаемся и над тем, как мог он известить нас об опасности, грозящей городу, и решить эту «проблему», так скажем, «технологически». Письма - туда и обратно и в мирное-то время ходят небыстро. А в условиях войны корреспонденция на почте, безусловно, контролировалась. По телефону еще сложней – разговоры прослушивались. Попробуйте сказать в телефонную трубку, что допускаете возможность прорыва немцев к Ленинграду. Это же измена родине - тюрьма и лагерь!
Свои провалы руководство страны пыталось свалить на «происки» врага, и даже не внешнего, а снова внутреннего – так «легко ловимого»! И с новой силой и в эти трагические дни взялось за разжигание «шпиономании», пытаясь горечь поражений, затушевать народным «гневом» на диверсантов и лазутчиков. «Настроения пораженчества» - таким был приговор профессору Павлу Владимировичу Мелентьеву, сломавший жизнь выдающемуся математику вычислителю, о судьбе которого я позже кратко расскажу.
Сумел, однако, обойти и эти препоны мудрый многоопытный Л.А. Так что, руководствуясь его «рекомендациями», мы с мамой двинулись не в Ленинград, а в Мордовию - на мамину родину.
А что же отец, которого мы оставили на перроне бобруйского вокзала? Как складывалась его судьба в первую неделю Отечественной войны?
После воскресенья 22 июня были понедельник, вторник, а приказов и распоряжений сверху, как действовать, так не поступило. Большевики старались отучать людей от принятия собственных решений, но не всегда и не со всеми это получалось. Так что на свой страх и риск командиры разгромленной отцовской авиачасти решились сами начинать эвакуацию людей и уцелевшей техники. Уничтожив всю аэродромную документацию и взяв с собой в дорогу из нее лишь главное, инженеры-гидротехники в составе сборной команды вольнонаемных отправились пешком в «свободное самостоятельное плавание».
Для «точки отсчета» напомню, что немцы заняли Бобруйск и Минск в один и тот же день в субботу 28 июня 1941 года. Отмечу и тот факт, что от Бобруйска до Минска 170 километров, от которого до Москвы остается еще шагать 750 километров. А для сопоставления скажу, что от Москвы до Бреста, куда мы не попали по воле случаю, и где находился в эти дни Лев Спиридонович Беляев, расстояние напрямую составляет 1100 километров. А, напрямую в России, как известно, даже птицы не летают!
Недавно я побывал на этом небольшом, по меркам нынешним, аэродроме, располагавшемся в те годы на окраине Бобруйска, а нынче находящемуся уже в черте этого уютного ухоженного городка, пытаясь представить себе ход мыслей и действий моего отца в один из самых критических моментов его жизни. Повторяюсь, счастье, что он был молод и не представлял, что может статься, если вдруг попадет он в плен, как это случилось в ту неделю с сотнями тысяч его двадцатилетних сверстников. Какие страдания и унижения пришлось бы ему вынести. Вспомним страшные кадры немецкой кинохроники – растянувшиеся на многие десятки километров колонны русских пленных, понуро бредущих по обочинам дорог Белоруссии и Смоленщины. Это были времена, когда немцы сами уже не знали, как пишут в воспоминаниях их генералы, что делать с нашими людьми. Но ничего, народ смышленый, придумали самое разнообразное им «применение»!
И все-таки я думаю, что по годам учебы их с Львом Александровичем в «Реформирте-шуле» отец мой немцев все-таки был должен тогда «идеализировать». Ибо и в страшном сне он не мог себе представить, что означает германский плен для русских (для европейцев были иные правила и иные мерки). Пусть и не носил он формы, но по приписному свидетельству военкомата, единственному его документу на тот момент, он был призван в армию. То есть находился на военной службе, и поэтому был должен разделить участь всех отступавших советских солдат и офицеров.
Или собственное наше командование, которое когда-нибудь, но все-таки объявится на их пути к Москве. Как выдержать проверку на «лояльность» и объяснить, что не дезертиры и не убегали со своих позиций. И тут «наш» приговор мог оказаться даже жестче, чем от фашистов – от лагеря и до расстрела на месте.
Не одну сотню километров прошагали они от бобруйского аэродрома, пока на счастье им не попалась машина, кем-то брошенная по неисправности газогенераторного двигателя. Сейчас мало кто знает о существовании таких автомобилей, работавших на самых обыкновенных дровах - на «чурочках». Даже в военных музеях никогда они мне не встречались. Но люди старших поколений их могут помнить по войне и первому послевоенному десятилетию. Как помнят о них и пожилые немцы, которым я рассказывал эту невеселую историю.
Долго они бились над машиной, но нашелся в компании у них и «русский умелец» – все же оживили! Поехали! А когда «чурочки» закончились, запасы «топлива» пополняли, распиливая штакетник в пустых домах и в брошенных деревнях, которые им попадались на всем пути к Москве. Их жители либо отступали с нашими войсками, либо уходили в окрестные леса. Вспоминая это, отец мой постоянно сокрушался, что много крестьянской работы они тогда порушили, а это было не в его привычках.
Ломались часто, но как-то все-таки чинились, ехали дальше, потом опять ломались. И, наконец, пришел момент, когда автомашина встала уже окончательно. «Эх, дороги, пыль да туман!», - как пелось в замечательной военной песне. Так что снова пришлось шагать пешком дорогами, ведущими к столице, и в самом деле пыльными от сотен тысяч ног, прошедшим в эти дни по ним.
Отец мой, как говорилось выше, был «цирлих-манирлих-аккуратист», и одет был в новые белые парусиновые туфли, которые теперь можно видеть только в довоенном советском кинофильме «Цирк» в сцене парада физкультурников на Красной площади. Мои знакомые немцы рассказывали, что и они носили перед войной такие же, и тоже очень их любили и берегли. И я успел в них «пофорсить» в давние школьные годы. В них, в самом деле, было легко и удобно! Красиво! И нога не перегревалась и не прела и даже при очень дальних переходах. Единственно, что плохо – чистить их надо было мелом или зубным порошком, от которого обшлага у брюк оказывались белыми.
И вот налетает немец на трассу – на Минское шоссе. Все сразу врассыпную по кустам, буграм, канавам. И отец мой тоже туда за всеми вслед, стараясь убежать, как можно дальше от дороги.
Энергетик профессор Н.А. Манов, с которым мы познакомились в Иркутске на юбилее Л.А., заметил, что по его опыту, наши беженцы действовали правильно и здраво. Перед началом войны они жили в Царском Селе в районе Орловских ворот, и когда раздавались сигналы воздушной тревоги, тоже оставляли бомбоубежище, которое при прямом попадании могло стать им общей братскою могилой, и убегали прятаться в находящийся поблизости Екатерининский парк. И что характерно, по его словам, звук сирен тревоги при налетах приближался от города - настолько все это близко, рукой подать от Пушкина до ленинградских заводских окраин.
Так вот, отец мой, слава Богу, уберегся тогда от немцев. Но туфли и брюки перепачкал. Непорядок – пусть лучше уж убьют, но унижаться, валяться по сырым канавам и кланяться их самолетам, а потом «драпать» в грязной обуви он не намерен! Не позволяли ему так поступать чувство собственного достоинства и изначально усвоенные правила поведения в жизни! Замечу, что «драпать» - глагол отца, который он всегда употреблял, вспоминая эту историю!
И при новом налете он уже не убегал с дороги, а становился за ближайший телеграфный столб! И совсем, как у нас там с мамой в нашем Старом Быхове, он видел лица летчиков, расстреливавших наших мирных граждан, скрывающихся в кустах и перелесках по сторонам дороги.
Ну, а его, одиноко «бочком» укрывшегося за столбами, не убили и даже не ранили. И только в середине 1960-х отец мой понял почему так получилось, прочитав опубликованные в СССР записки упоминавшегося мной выше начальника генерального штаба вермахта генерала Ф. Гальдера. Оказалось, что «хитрый» немец, сберегая российские дороги, специально запретил их трогать. Их главной целью на момент вторжения в Россию было уничтожение «живой силы противника», и поэтому они бомбили именно обочины шоссе и стреляли по прятавшимся там людям.
Так что отец мой, сам того не ведая, благодаря особенностям своего характера, сумел проникнуть в «тайны» стратегии германского командования и в итоге благополучно добрался до столицы. В Москве в центральном отделении ГУАСа, в котором он оставался числиться после столь быстрого и неожиданного прекращения военных сборов в Белоруссии, сообщили, что возвращаться в Ленинград ему не нужно, а следует немедленно отправляться в город Иваново. Задача - переоборудование тамошнего военного аэродрома. Немец рвется к Москве, и если все-таки ее захватит, то линия советской обороны будет отодвигаться еще дальше на восток. Вслух такие слова, конечно, не произносились, но ход военных событий конца июня - начала июля 1941-го года подсказывал логику дальнейших действий нашего командования. Но русским повезло тогда, Москву мы отстояли, и худшего с Россией не случилось.
А через полтора года военно-инженерной службы отца в Иваново, куда приехали сначала мы с мамой из Мордовии, а потом и вырвавшаяся из блокады Ксения Павловна, он был откомандирован дальше на восток. В Сибири начиналось строительство новых 16-ти аэродромов для приемки американских самолетов, поставляемых нам по ленд-лизу Америкой и перегоняемых с Аляски на русский фронт. Это был так называемый проект «Алсиб». Это имя прямой воздушной трассе между Аляской и СССР дал 32-й трехкратный президент США Франклин Делано Рузвельт.
Так вот один из этих алсибовских аэродромов сооружался в Западной Сибири под городом Барабинском. Мы прибыли туда с отцом в начале осени 1942 года, а время старта первых перегонов намечалось уже на ноябрь. Масштабные гидротехнические работы предстояло выполнять посереди бескрайней степи на месте практически пустом нетронутом необжитом. Штаб русской части «холодной трассы», как называли ее пилоты, поскольку при сорокоградусных морозах каменело масло в двигателях, располагался в Якутске. Первая заправка на Аляске в Анкоридже, где до сих пор американцы ухаживают за 13-ти могилами наших летчиков, разбившихся при пробных испытаниях новой техники. Затем полет над Беринговым морем до Чукотки в аэропорты в эскимосском селе Уэлькаль и староказачьем поселке Марково, построенные заключенными Дальстроя в наикратчайший срок на вечной мерзлоте. И после этого гигантский трансконтинентальный перелет через Сеймчан на Колыме в Якутск, и далее на Красноярск. Иногда по условиям погоды в районе Верхоянского хребта летали «южным вариантом» на Киренск и Иркутск через Охотск, где сохранилась и работает поныне взлетная полоса из сбитых металлических полос, которая была когда-то там установлена американцами. Условия на трассе были тяжелейшими, работали почти вслепую без радиопривода и без локаторов, при плохом метеообеспечении. Бомбардировщики решались отправляться в полет порой и в одиночку, но истребители шли через Сибирь крыло в крыло «гусиным строем», чтобы постоянно видеть в поле зрения соседа, а при отказе поддерживать друг друга.
Девочка из поселка при аэродроме – моя ровесница все рисовала небо и в нем много-много летящих самолетов в виде крестиков и палочек, но почему-то на рисунке все они соединялись какими-то особыми кружочками в одну цепочку. «Зачем же это? – спрашивали родители. – А, чтобы не разбивались, если что-нибудь случится!». Да, эти тревоги были не напрасны. Случалось и такое. По официальным данным, на российском участке трассы произошло 279 летных происшествия, из них 39 катастроф, 49 аварий, 131 поломок и 60 вынужденных посадок в «ненаселенке», означавших почти верную смерть. Всего погибло 114 советских летчиков!
Сложнейшие проблемы решались инженерной службой Барабинского аэродрома и моим отцом, как гидротехником. В его задачу входило поддержание ВПП в исправном состоянии при любой погоде, но что было особо трудным в условиях болотистой западносибирской низменности - при любой нагрузке на нее! Замечу, что помимо легких истребителей «Аэрокобра» Р-39, через нас перегонялись фронтовые двухмоторные бомбардировщики Douglas А-20 "Boston" Havoc, взлетная масса которых превышала 11 тонн! И летели они к нам не пустые, в них перевозились грузы самых различных применений и назначений - запасные двигатели, военное техническое оборудование, а также продовольствие, лекарства и медикаменты для госпиталей, дипломатическая почта.
Помню так поражавшую мальчишеское воображение пилотскую кабину и боевой отсек воздушного стрелка, в котором на турели размещался вращающийся крупнокалиберный пулемет «Кольт- Браунинг». И не один - на некоторых «бостонах» их стояло семь – и даже девять штук. Обычно четыре в носу и три оборонительные - сзади!
Но это еще не все. Помню и необыкновенный огромный сигарообразный самолет с гордо задранным носом и двумя вертикальными стабилизаторами на хвостовом оперении, чуть «припадавший» на маленькое заднее «колесико». Это был знаменитый английский Avro Ланкастер 683, который летчики называли в шутку «гуд пэнни». Тяжелейший четырехмоторный гигант доставлял особенные хлопоты аэродромной службе.
Как попал к нам этот знаменитый английский бомбардировщик, не ведаю, хотя одну из его модификаций делали на своих заводах союзные канадцы. Но по ленд-лизу они, , вроде, к нам не поступали. Возможно, Ланкастерами пользовались высшие чины обеих стран - генералы, дипломаты, Перемещались по «холодной трассе» и наши послы в Америке А.А. Громыко и М.М. Литвинов, и даже вице-президент США Г. Уоллес, летевший в 1944 году с визитом к Сталину. Но самым наиглавнейшим бесценным их грузом могли быть передвигавшиеся по «Алсибу» золотые слитки - именно они служили платой за товары, поставляемые России по ленд-лизу.
По одним источникам с конца 1942 по январь 1946 года - до момента разрыва отношений, СССР было получено 7928 самолетов, по другим – 8094. Много пришлось работать Владимиру Александровичу Мелентьеву, брату Л.А., чтобы все они успешно преодолели наш Барабинск и ушли далее на фронт.
Но к началу 1944-го года работа по техобслуживанию нашего промежуточного аэродрома была полностью отлажена. Поэтому после окончательного прорыва в январе 1944 года блокады Ленинграда отца отзывают опять на запад. И весной 1944-го он уже служит здесь в Гатчине. Войну отец закончил в Прибалтике. Победу встретил на реконструкции аэродрома в Тарту. И что характерно, когда они входили в город вслед за советскими войсками, на главной его площади еще красовалась табличка «Гитлер-плац». Так в честь фюрера эстонцами была услужливо переименована Рыночная площадь Юрьева (Дерпта), основанного князем Ярославом Мудрым в 1030 году.
Но главным трагическим событием за время войны для, знаю, был июнь 1941 года. Картины страшных всеобщих бедствий, изгнание, исход сотен тысяч людей и унижения нашего собственного бегства от немцев - все это оставалось в его памяти. Как русский, он был отходчив, и, вспоминая те дни, не гневался – так уж случилось тогда с нашей страной. И очень был благодарен, когда однажды, оказавшись случайно в Рославле - городе, через который отступали он и его товарищи по авиачасти, я купил опубликованные в «Дружбе народов» военные дневники Константина Симонова. Он шел теми же дорогами и эти записки стали потом основой его героической эпопеи «Живые и мертвые».
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины!», - это о тех первых днях Отечественной войны. Здесь же родились и бессмертные строки «Жди меня и я вернусь!». Помню, как студенты венгры, изучавшие во времена социализма подневольно по принуждению русский язык, читали это гениальное стихотворение наизусть, понимая все его величие и скорбь.
Так что отцу, прошедшему тот крестный путь от Березины и Бобруйска, было понятным завещание большого русского советского поэта развеять его прах именно здесь в районе Минского шоссе, где оборвались жизни многих сотен тысяч молодых людей, их тогдашних сверстников. Это было желание человека много повидавшего и пережившего в жизни соединиться со всеми теми, кто погиб, не успев реализовать себя, свои возможности и свои таланты.
<-- Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница -->
| На главную | К другим публикациям | В начало страницы |