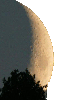 |
 |
 |
| Содержание | 12.03.10 |
2.3. О матери Льва Александровича - Ксении Павловне Мелентьевой (ур. Гайчук-Шатько)
Рассказ о жизни и военных судьбах родных и близких, провожавших нас 6 июня 1941 года в Бобруйск начну с матери Л.А. Потому что мы с ней очень любили друг друга. А еще и потому что в мире нет ничего похожего на «институт» российских русских бабушек, воспитывающих внуков и сохраняющих семейные традиции, передавая их нарождающимся новым поколениям. В «цивилизованной» благоустроенной Европе дети со спокойным сердцем «сдают» родителей по достиженью «соответствующего возраста» в покой и уют дома престарелых. Но все же не всегда душа детей при этом остается спокойной. Помню, как у одной моей знакомой француженки, заметившей удивление в моих глазах при ее рассказе о подобном благодеянии, «содеянном» ей с мужем над свекровью, появились в голосе и извиняющиеся нотки.
Л.А. взял многое от своего отца - деловые качества, способность мыслить рационально, трезво, созидательно, по инженерному – Александр Николаевич был высококлассный инженер-химик. При этом широкий взгляд на мир, умение видеть перспективу, работать на нее, отделяя в проблеме все второстепенное.
Но тот особый такт, присущий Л.А., внимание к людям, доброжелательность, способность сопереживать «чужим» страданиям достались, думаю, ему от матери.
Ксения Павловна (1888-1962) родилась в Сибири, в Барнауле, куда, по делу группы болгарского революционера Д. Благоева был сослан ее отец Павел Петрович Шатько. Шатько – старинный дворянский род из Малороссии, составляющая рода Мелентьевых по линии «бабушки Оксаны» - Саны. Так, на украинский манер, звали мать Л.А.. Отмечу сразу, что при всей любви к родине ее шатьковских предков идеи «незалежности» и «самостийности» были чужды К.П., как, впрочем, и всем другим Мелентьевым.
В каждой семье свои воспоминания, свой уровень отношений с прошлым и к прошлому. Сохранила память об истории семьи и рода мать Л.А. Рука не поднималась у нее, чтобы уничтожить переписку и документы дедов и прапрадедов, начиная с ХУ111 века. Письма, написанные на многих иностранных языках, привлекали внимание ОГПУ и затрудняли их «работу». И, чтобы письма не отняли, она переводила тексты, объясняя, что нет в них ничего «крамольного». Благо, что, получив прекрасное домашнее образование, знала в совершенстве три главных европейских языка.
Здесь же скажу и об отношении К.П. к коммунизму. Я никогда не слышал от нее ни жалоб, ни проклятий в чей-то адрес: «Так получилось уж у нас в России!». Ниспослано нам за грехи, согласно вероучению святого ростовского князя Василько Константиновича, одного из стародавних предков Л.А., канонизированного русской православной церковью. На пример его достойной жизни и святых деяний первой мне указала К.П.
Единственное, что позволяла она себе сказать по отношению к власть предержащим было: «За что боролись, на то и напоролись!» И при этом она имела ввиду не какие-то там абстрактные разрушительные «заблуждения» русского общества второй половины Х1Х века, но и «вклад» конкретных идеалистов либералов - отца и матери К.П.. Помню и часто повторявшуюся ею в беспомощности фразу: «Не знаю. В наше время так не было!».
И не более того. Как гениально сказано у Пушкина: «В поношении нет истины, и нет истины, где нет любви». Да, это было испытание страны. И не было оно случайным. Прощать, не гневаться. И это тоже было так по-русски у матери Л.А.!
Я помню «блокадный чемодан», в котором сохранялись письма и документы из истории семьи Мелентьевых, и с которым К.П. с дочерью Ириной Александровной трижды отправлялась на «Дорогу жизни» к Ладоге. Почему же трижды? Потому что первых два приезда к Вагановскому спуску оказались напрасными. И они вынуждены были вновь возвращаться в обезлюдевший наш дом № 43 по улице Петра Лаврова, которую мы в детстве называли ласково «Петрушей» или даже «Петрушкой»!
Помню, как, лазая по чердакам его и по подвалам, мы боялись заходить в стоявшую пустой соседнюю квартиру, имевшую страшивший нас номер 41. При всей послевоенной нехватке «площадей» ее долго не ремонтировали, не заселяли - в ней находился дровяник. И мы догадывались, почему ее не трогали. В блокаду там был «накопитель» - место, куда дворник Павел «складировал» умерших. И не только в нашем доме, но и в ближайших к нам дворах. Сам он войну не пережил, но о той его «работе» все в округе знали. Помню, как однажды мы все-таки туда забрались. И толи показалось, толи и в самом деле увидел я среди поленниц дров забытого покойника, но после того случая я начал заикаться.
Блокадная зима 1941/42 гг., по данным Гидрометслужбы, оказалась для Ленинграда и для всего северного полушария самой суровой за весь ХХ век. А в те два первых их приезда на Ладогу, термометры вообще, что называется, «зашкаливали». Морозы, как вспоминала К.П., тогда стояли особенно ужасные. И ехать дальше через озеро им отсоветовали. Нашлись там люди, которые предупредили бабушку, тогда совсем еще не старую, и мою тетку – молоденькую, но очень ослабевшую, что им не выдержать пути, что в эти дни они привозят на тот берег лишь гору обледенелых трупов.
А люди - хорошие и добрые там были. И немало. Один из моих учителей доктор географических Алексей Иванович Тихомиров, а тогда солдат, работал - «шоферил» в ту зиму на Дороге жизни. Выдающийся ученый лимнолог, после войны создавший теорию термического бара внутриконтинентальных пресноводных водоемов, был человеком с прекрасным добрым сердцем. И я очень допускаю, и даже хочу, что было так, что это он и подсказал тогда моим родным возвращаться в Ленинград.
Так что отъезд их из осажденного немцами города состоялся уже в распутицу по льду весенней Ладоги. И на «Большую землю» они попали, когда весь самый ужас первой зимы в блокадном Ленинграде был позади.
Как они выжили, и в самом деле, одному Богу известно. К чувству голода, терзавшему особенно вначале, добавлялась тревога за детей. Пусть уже взрослых, но для К.П. они оставались по-прежнему ее детьми.
Особенно тревожилась за дочь Ирину, от мужа которой с Ханко не было известий. Разрываясь на два холодных и голодных дома, И.А. то оставалась с ней, то шла пешком по льду Невы к семейству Лищенко. Путь с Петра Лаврова до 12-й линии Васильевского острова не близкий. Но это хорошо – в движении жизнь. Однако и опасно – идти ей приходилось под частыми артиллерийскими обстрелами. Немцы пристрелялись по скоплениям кораблей, вмерзших в невский лед, и били по ним целенаправленно и методично.
По осени и сын, и дочь в живых остались только чудом, по случайности. Слова «случайно» и «чудо» в условиях блокады были соседями. Ибо, в самом деле, это было законом минувшей той войны, что люди честные, не прятавшиеся, не укрывавшиеся от опасности, остались живы на фронте и в тылу действительно лишь чудом по удивительной случайности.
Л.А. жил тогда еще в своей квартире на Софьи Перовской - в Инженерно-экономический институт он и его сотрудники переселились позже – в начале декабря. И вот однажды утром он шел по Невскому в сторону Марата в ЛИЭИ, где они готовили патроны для гладкоствольных ружей - за нехваткой винтовок ими снабжали ополченцев. Так пригодилось на войне его охотничье умение делать и это дело хорошо и качественно!
Шел, как обычно, по северной нечетной - «рекомендованной» плакатом стороне проспекта, как менее опасной при артобстрелах. И вдруг шальной осколок, который вполне мог стать «его» осколком, пролетевший буквально в сантиметре над головой, поражает насмерть офицера, который шел буквально рядом с ним – чуть-чуть лишь впереди Л.А.. А он остался чудом жить и за себя и за того военного, убитого случайным вражеским осколком!
И сразу вслед за этим был случай и с И.А. На углу Большого проспекта и 1-й линии В.О. возле лютеранской церкви Святой Екатерины, она ждала трамвай, который осенью еще ходил. Трамвай теперь там сняли, но каждый раз, когда я проезжаю это место на автобусе и вижу это здание, прекрасно сработанное нашим питерским немцем Георгом Фельтеном, невольно вспоминаю тот «чудесный» случай с И.А., а также и тех, кому удача в тот день, увы, не выпала.
Октябрь 1941 года был холодным с ранним снегом и сильными ветрами. И чтобы укрыться от порывов ветра с запада, И.А. решает спрятаться под сводом портика между колоннами. Сама церковь Святой Екатерины была закрыта еще при Кирове. И только отошла она от остановки, как артиллерийский снаряд попадает прямо в то место, где только что она стояла! И все те люди, с кем обсуждали они вести с фронта даже не минуту, а секунды лишь назад, исчезли с лица земли, как будто их и никогда и не было. Погибли, опровергнув пропагандистский большевистский слух, что фашисты не стреляют по Васильевскому острову, где сотни лет селились исторически свои родные «наши» коренные немцы петербуржцы.
Вначале дочь была активна, дежурила на крыше, заставляла К.П. спускаться по тревоге в бомбоубежище, располагавшееся в подвале непосредственно под нашей квартирой номер 2. Потом обе «привыкли» и стали оставаться в комнате. А при налетах забирались под большой рояль. И было даже чуточку смешно вначале и неловко друг перед другом выбираться оттуда при отбое. Страшно стало, когда К.П. почувствовала безразличие дочери к смерти.
Случилось это после того, как умер от истощения Дмитрий Антонович – отец мужа И.А., светлый проникновенный художник и обаятельнейший человек, глава прекрасного «улыбчатого» семейства Лищенко, где говорили друг с другом только ласково и всегда с приветливой улыбкой. К.П. понимала страдания дочери. Ей и самой порой казалось, что люди, подобные Д.А., вообще не умирают. И даже и в ту зиму - голодную и страшную они не могут умереть.
С сыном ей было не так тревожно. Хоть и дистрофик Лев Александрович, но он человек предельно организованный собранный – даже в блокадный мрак и холод продолжает стирать себе рубашки и гладить подворотнички. А во-вторых, в институте есть у него и замечательная Екатерина Александровна Абаренкова - стародавний друг семьи Мелентьевы. Катюша химик (студентом я сдавал доценту Абаренковой экзамен по аналитической химии, и она оказалась, наверное, единственным преподавателем в ЛИЭИ имени В.М. Молотова, поставившим мне пятерку, не выяснив вначале, не родственник ли я Л.А.) и прекрасная душевная женщина, вовлекшая Льва Александровича в их химическую кафедральную «коммуну». И что-то они там «колдуют» малосъедобное и неприглядное на вид, но все-таки это какая никакая, но «еда». И иногда от «щедрот» Е.А. и им с дочерью перепадает!
Судьба самой Катюши, казалось бы, ужасна, но она величайший на свете оптимист, поддерживает всех и каждого, ссылаясь на свой собственный «пример».
Муж ее – ракетчик был арестован НКВД в ноябре 1937 года по делу разработчиков первых в мире реактивных боевых машин «катюша». Большинство руководителей проекта – специалистов из газодинамической лаборатории (ГДЛ) и Реактивного института (РНИИ) расстреляли в начале января 1938-го. А мужа Екатерины Александровны оставили в живых, и сидел он, как она рассказывала, в одной камере с маршалом Константином Константиновичем Рокоссовским.
«Смотрите, - говорила Е.А. – Мы думали, конец всей нашей жизни. Но нет, пришла война, и ТАМ (!) - «разобрались» в своих ошибках. Выпустили мужа!».
Читаю в Интернете «Журнал приемной Сталина». Запись от 28 июля 1941 года: 1. Маленков 16.30—18.00, 2. Молотов 17.00—18.35, 3. Кулик зам. НКО и Нач. Гл. арт. упр., 16.30—17.25 4. Горемыкин зам. НК воор. 16.30—17.20, 5. Устинов 16.30—17.25, 6. Яковлев Нач. ГАУ 16.35—17.25, 7. Абаренков команд. ГМЧ 16.35—17.20, 8. Костюков 16.35—17.20, 9. Вознесенский 16.30—17.25, 10. Малышев 17.10—17.20, 11. Ефремов команд. 33 А 17.15—17.20. Последние вышли в 18.35!
Для справки: «7. Абаренков команд. ГМЧ 16.35—17.20, команд. ГМЧ» означает Командующий гвардейскими минометными частями – в просторечии называемыми «катюшами». Кстати, «катюша», это название народное, солдатское - неофициальное. И нет единства мнений о его происхождении. Но у меня, как может догадаться внимательный читатель, есть на этот счет и собственная версия возникновения имени советской «боевой Катюши»!
Так что, и в самом деле, ТАМ «разобрались». И было, что обсуждать в тот день 28 июля 1941 года (!) главным персонам из политического и военного руководства СССР на экстренном совещании у Верховного главнокомандующего.
Результатом активности выпущенного на свободу мужа Е.А. стало то, что уже в первую неделю войны – 26 июня 1941 года (!) в РНИИ из того, что там у них осталось после разгрома НКВД, они собрали целых пять (!) «катюш». И в тот же день в Воронеже на заводе им Коминтерна была завершена и сборка первых двух серийных установок БМ-13 (13 – означает калибр снарядов 132 мм). Смонтированные на шасси автомобиля ЗИС-6 они прямым ходом тотчас отправились на выручку Москве.
О чудо совпадений и случайностей! Я помню ту особую заботу об этом оборонном предприятии И.А. при разработке Генплана города Воронежа, за который ей и присвоили звание заслуженного архитектора РСФСР. И еще - могила матери Л.А., скончавшейся у дочери в Воронеже, находится на так называемом «Коминтерновском» кладбище!
В итоге 28 июня 1941 года все эти семь боевых машин, соединенные в батарею, после проведения полигонных испытаний скрытно начали движение на запад навстречу немцам. Ошеломивший гитлеровцев залп этих «экспериментальных» семи орудий под командой капитана Флерова, произведенный 14 июля 1941 года «по скоплению войск противника на железнодорожном узле города Орша», стал первым опытом практического применения «катюш» в Отечественной войне.
«Катюши» были сверхсекретным оружием РККА. Боялись их попадания к немцам, поэтому на случай чрезвычайных ситуаций имелось и специальное устройство для их подрыва. Даже традиционную команду «Огонь» артиллеристам запрещалось подавать при начале площадной огневой «обработки» территории противника!
Новым успехом полковника Абаренкова, достигнутым уже после совещания у Сталина, стало формирование 8 августа (!) восьми (!) полков «катюш», в каждом из которых было уже по 36 машин!
Так что результаты «работы» мужа Е.А. в те первые дни и недели войны выглядели ошеломляюще и, в самом деле, давали основание для оптимизма не только у самой Е.А., но и у всех людей у нас в России.
Да, конечно, - с мужем они не виделись: она - в блокадном Ленинграде, он на фронте. «Но ничего! Все будет хорошо и на войне и в личной жизни, - утешала Катюша Абаренкова Ирину Александровну, давая ей надежду в ожиданиях мужа.
Хорошим светлым отношением к жизни поддерживала она и Льва Александровича. Оставшись с июня 41-го без жены, без ее семьи, после отъезда в эвакуацию сестры и матери, он оказался в Ленинграде в полном одиночестве.
Оптимизму Е.А. и в самом деле можно было доверяться - все обошлось. И для Екатерины Александровны война закончилась в целом благополучно. Но все мы – все наше семейство, оставаясь в любви и дружбе с этой прекрасной женщиной, всегда помнили, кому в блокаду Л.А. был обязан жизнью. Он тоже об этом помнил, и в свои приезды из Иркутска непременно звал ее на все наши встречи. Приходила она в наше семейство, конечно же, и после смерти Льва Александровича.
Помню тогдашнее очередное ее увлечение - «химичение» с серебряной водой, которая, по уверениям Е.А., спасает от тысячи болезней. Помню, и как она гордилась мужем - ракетчиком, принимая нас в коммуналке у себя на Фурманова (Гагаринской). Видно, несмотря на все заслуги мужа, да и самой доцента Абаренковой им большего не полагалось. «Ну, ничего. Кому-то и нужнее», - с улыбкой говорила наша неунывающая оптимистка и «бессребреница» Катюша.
После войны спасенный К.П. «блокадный чемодан» благополучно возвратился в Ленинград. Помню разборы его содержимого и ее рассказы о давно ушедших временах и людях, наполнявших их теплом и светом, и добрыми делами.
Ксения Павловна была душевным мягким человеком. Простота в общении, доброжелательность и сострадание к слабым. Ни на йоту высокомерия или пренебрежительного отношения к людям. В сложных «житейских» ситуациях хорошие дела шли у нее «от сердца»! Однажды, вскоре после рождения Л.А., когда жили они еще в имении «Приволье» под Окуловкой, гуляя с годовалым Левушкой по аллеям Кулотинского парка, она услышала вдруг женский плач и крики, раздававшиеся со стороны поселка при стекольном заводе, принадлежащем ее отцу. К.П. бросается туда и выясняет - дети ходили за грибами, и одного из деревенских мальчиков в ногу укусила змея. Мать плачет, не знает, что тут делать, что предпринять!
Без долгих размышлений, не думая о риске для самой себя и о сыне, К.П. высасывает яд из ранки. Ребенок - чужой ребенок! - был спасен. А, окажись во рту малейшая царапина, не ясно, чем бы все это кончилось. Змеиный яд в ноге и яд во рту – большая разница! Как объяснили ей потом, возможна была и смерть. Но это лишь возможно, и потом! Благое дело было сделано, и к вечеру нога у мальчика опала. Все были счастливы!
С момента возвращения из эвакуации и до самой смерти К.П. в феврале 1962 года мы жили душа в душу в той нашей «общей» 11-ти метровой комнатушке с единственным окном, упиравшимся в особо темный закуток двора-колодца. Свет горел и днями, и вечерами. Дождь барабанил по железной крыше входа в бомбоубежище. На дворе была холодная война, его отремонтировали, и оно было готово вновь укрыть нас всех, а, может, даже сохранить при американской ядерной атаке, как старых и бывалых, так и новых его потенциальных посетителей.
Я занимался, родители работали или в отъезде, а К.П. готовила что-то нехитрое нам на двоих на керосинке. Проверяла мои уроки, играла со мной на пианино в четыре руки, занималась английским. Жалею, что, по детской глупости и лености, не стал учиться у нее немецкому и французскому. И еще - не помню, чтобы за мои проказы она кричала или, хоть раз, повысила бы голос.
Книг после блокады почти не оставалось - сожгли. И все же она их доставала и вечерами читала вслух мне русских классиков, или с ходу, с листа переводила хорошие немецкие стихи, английские романы, которые приобретала у букинистов на деньги, заработанные частными уроками – преподаванием языков. Помню и чтение ежевечерне французской книги с множеством картинок о приключениях капитана Коркорана в Индии. Слышу и сейчас, как по-особенному, с французским “n” посередине слова произносила она фамилию героя - победителя.
Однако самой любимой книгой матери Л.А. была «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Ее герои - Сомс, рыжеволосая Элен, старый Тимоти, сложнейшие хитросплетения судеб огромного числа людей, семейные дела, предания и связи на протяжении более двух столетий английской и мировой истории.
Помню, как собирала она всех наших, кто пережил войну, оставаясь вплоть до кончины, центром притяжения семьи Мелентьевых. Как готовила пирог закрытый из черники – «фирменное» ее блюдо, пришедшее к нам из времен Приволья. Как угощала гостя яблоками с Мальцевского рынка, ставшего потом «Некрасовским» в очередную кампанию за чистоту «русского советского языка», вспоминала идущее из старины поверье: «яблоки утром – золото, днем – серебро, вечером – бронза!».
«Танта» - тетушка, так по-французски чинно обращались к ней взрослые. И говорили они не о вещах, и о не модах, не об утерянном богатстве, а о делах страны, в тревоге размышляли о планах и месте в жизни детей и внуков, надеясь на успехи растущих новых поколений в работе, в учебе и науке.
И, конечно же, воспоминания! «Сага семьи Мелентьевых»! Рассказы о прежних временах, традициях и о системе образования в России. У всех детей Мелентьевых, Шатько, Ворониных, Быковых, Ухтомских учителя были один другого умней и образованней. Даже революционера-«демократа» Н.Г. Чернышевского, тогда безвестного студента, чтобы поддержать талантливого юношу, академик-либерал М.С. Воронин, дед Ксении Павловны, пригласил в семью учителем. А если заболевали дети – читаю в письмах: «Послали за Раухфусом!» – в то время лучшим в Петербурге детским доктором. Если возникали проблемы у наших женщин, вызывали Снигирева - другого столичного светилу медика!
Сейчас иду по Петербургу – и чувство близости и непрерывной связи имен, событий. Старинные дома, - но люди, в них жившие, работавшие, мне близки и знакомы, в некотором роде «человеки – пароходы!». Больница Раухфуса, там с гландами когда-то лежал и я, потом и мои дети. «Снигиревка» – женская больница и роддом - тоже наше «родное» место. Дети Снигирева воспитывались в доме М.С. Воронина вместе с Ксенией Павловной. Памятник Шевченко – недавний подарок Петербургу от «незалежной» Украины. Невольно вспоминаю – на выкуп его из крепостной зависимости пошли и деньги другого прадеда Л.А. – члена Академии художеств и мецената Н.Д. Быкова. Зачем он это сделал для человека, который оказался одним из самых первых «инициаторов» страшнейшего развала моей родной страны? Вдруг и такая возникает у меня «мыслишка».
Вхожу в вагон метро, и голос диктора заботливо предупреждает: «Следующая остановка – Чернышевская»! Прав был Иван Тургенев - какое же, однако, богатство языка у русских. Мужчина, а станцию метро можно назвать и в женском роде!
Но никто, конечно, не догадывается здесь в тесноте вагона, что машинист напоминает мне и об истории семейной, и об ошибках, мягко скажем, в выборе домашнего учителя. Пусть говорят, что «не судите», но все же! Наводит машинист на мысль о своеобразной «остановке» этим человеком российской истории. Не помню точно последовательности в жесткой ленинской формулировке, кто из них кого там разбудил. Но помню то, что этот демократ своим призывом к топору прошелся по жизни всех и каждого в России. Но: «Что делать?» Вошел в историю страны, вот, и в метро ворвался изобретатель «чернышевской» революционной остановки!
Казалось бы, система «свекровь – невестка» – извечное «единство и борьба противоположностей». Но получилось так, что только Александра Семеновна Колесанова, жена брата Л.А., хотела и умела слушать К.П. Все были предельно заняты, а у моей матери и после всех забот по дому и многочасовых проверок школьных тетрадей на это оставалось время. В итоге она и оказалась человеком, принявшим эстафету от К.П. по сохранению памяти семьи Мелентьевых. Так что, когда нас разыскала профессор Вера Аркадьевна Парнес, биолог с мировой известностью, задумавшая подготовить для издательства «Наука» книгу о жизни академика М.С. Воронина, о его учениках, последователях, то главным консультантом ей стала моя мать.
Здесь, думаю, уместно будет рассказать и о событиях, происходивших в год смерти Л.А. Две последних наших встречи в январе и феврале 1986 года мне памятны особо. Так получилось, что оба этих два последних раза мы были с ним одни на даче в Мозжинке. Вера Ивановна по нездоровью оставалась в городе, так что, поужинав «по-холостяцки», мы говорили допоздна о многом – и о его делах, здоровье, и о моей работе и «личной» жизни.
Л.А. благодарил меня и мою жену за нашу помощь Екатерине Александровне Мелентьевой, интересовался посмертными изданиями ее книг, которые я «продвигал» тогда в Алма-Ате, а также и моими «раскопками» историй жизни наших предков. Я обещал продолжить поиски и его бабушки и дяди, оказавшихся вне родины. Два письма Веры Михайловны из Танжера, пришедшие в 1946 году в СССР окольными путями, были криком души русского человека, оставшегося без отечества. Воспользовавшись кратким послевоенным «потеплением» в мире эти письма из Африки нам переслал со всевозможными предосторожностями американец мистер Нойс, когда-то служивший управляющим в имении Ворониных - Шатько Приволье.
Работал Л.А. не за награды, но, безусловно, это важно, когда страна и общество высоко ценят твои труды. С застенчивой улыбкой – впервые! - он показал мне в тот приезд почетную профессорскую мантию Пражского Политехнического института - она хранилась у него на даче. Тогда же Л.А. сказал, что хочет, чтобы после смерти его награды сохранялись в моей семье.
Незадолго до этого врачи ему сказали, что «у него бомба в животе» - дословные тогдашние слова Л.А. И предупредили, что аорта может разорваться в любую же минуту - хоть и сегодня. И что поэтому он так спешит и так торопится закончить книгу по истории развития энергетической науки, чтобы под «закат», анализируя историю, отдать свой долг учителям, а для своих учеников - обозначить пути дальнейшего ее развития.
Говорили и о моей работе – я собирался менять работу, переходить в Академию наук, в Институт озероведения. Тогда же в Мозжинке «признался» я родному дядюшке, что «на старость лет» мы решили завести и третьего ребенка. Л.А. поддержал эти «намерения». Отец же мой, я помню, отчаянно ругал, что сумасшедшие, как будто бы предчувствовал развал в стране, в науке.
Говорили мы много и откровенно, зная, что прощаемся надолго, а оказалось навсегда. В начале марта 1986 года я уходил в рейс в Тихий океан в экспедицию на четыре с лишним месяца, поэтому и не был похоронах Л.А., а о его смерти мне сообщила мать в письме, полученном мной во Владивостоке в конце июля по возвращении в Россию. Чернобыль (чем он стал для Л.А., я тоже знаю), застал меня в Ванкувере в Канаде за десятки тысяч километров от Москвы, где в ту неделю запретили полностью продажу молока. А наш корабль НИС "Академик Королев" и моя аппаратура, которая потом слетала в космос на КА "Алмаз", были экспонатами павильона СССР на Всемирной выставке «Экспо-86».
В письме, которое я получил, вернувшись с моря, от матери, ставшей после смерти Ксении Павловны поистине хранительницей традиций нашего рода, были и такие слова «Один Мелентьев ушел, другой пришел на свет». Дело в том, что за пять дней до смерти Л.А. родился мой младший сын. Писала мама, что они успели сообщить об этом Л.А. И еще - просила назвать новорожденного в честь брата ее мужа - Львом. Каюсь, не исполнил я просьбы матери. Мы с женой заранее договорились дать ему имя Павел, чтобы не уходила память о Павле Петровиче Шатько - деде Л.А. (о жизни этого идеалиста революционера когда-нибудь я расскажу когда-нибудь отдельно). Ну, и потом, еще не вечер, и остается надежда и на внуков «мужеского пола», как говорили в старину!
К.П. любила мою мать и доверяла ей, но их отношения были, конечно, не самыми простыми. Вернувшись из эвакуации в наших двух комнатах мы обнаружили одни пустые стены – мебель, картины, дорогие сердцу К.П. вещи, предметы старины все было украдено, растащено (замечу, что эта ситуация тогда была совсем не редкой). Бабушка и все мои «гнилые» мелентьевские интеллигенты в бессилии опустили руки, а мама, с присущей ей природной крестьянской сметкой, обошла окрестные дома, соседние квартиры и многое пропавшее там обнаружила. Нашла свидетелей, и, по суду, нам кое-что вернули.
Замечу, что пригодился и ее недавний опыт отстаивания интересов семьи, полученный в Сибири при нашем возвращении из эвакуации. День победы застал нас в Барабинске, где отец работал на аэродроме. Потом, как только немцев отогнали от Ленинграда, и блокада закончилась в 1944-м, папа был вызван в Гатчину для продолжения службы. А нас – его семью - обратно в город не пускали.
И это было неслучайно, а специально организованною «акцией», как нынче говорят. Установка сверху препятствовать эвакуированным возвращаться в Питер. «Партия и правительство» и до войны побаивались ленинградского пролетариата и интеллигенции, «организовавших» им революцию, поэтому отношение центра к Ленинграду во времена социализма было, мягко выражаясь, настороженным. Думаю, читатели из старых питерцев помнят об этом и со мною согласятся. А тут «вдруг» собираются вернуться тысячи людей, рассерженных войной, блокадными потерями. Они, ведь, могут оказаться мало удобной «общностью», расположившейся столь близко по соседству с центральной властью. Почему бы и не воспользоваться неожиданно свалившимся удобным случаем и не оставить их по окраинам России.
Почти год прошел по окончания войны, а мы не получаем ответа на запросы о возвращении домой к отцу. И тогда мама решает ехать в Новосибирск, чтобы там - «на месте» разобраться с нашими «бумагами». На поездки по стране в то время полагалось иметь пропуск, так что пришлось ей добираться до областного центра без разрешения на «перекладных» - на подножке товарняка, на площадке последнего вагона, открытой ветру, в западной Сибири особо жесткому. Знаю это, проработав в системе Гидрометслужбы двадцать с лишним лет. И представляете, сумела «достучаться» она до тамошних начальников. Оказались вполне «вменяемые» люди. Уговорила, и разрешение вернуться ей выдали!
Две недели мы ехали в вагонах с открытыми на мир дверями – в так называемых, «теплушках». И, в самом деле, я вспоминаю их как что-то очень теплое. Наверное, еще и потому, что это было первое мое сердечное душевное знакомство с родной моей страной. Апрель 1946-го года. Мы едем из Сибири, где еще стоят «сибирские» морозы. И, вроде бы, и холодно, но и сейчас я ощущаю ту теплоту и солнца свет, нас пригревавшего. И, кажется, как будто бы все эти две недели ночей и вовсе не было. Помню горячий кипяток на станциях, так украшавший нашу «трапезу», предельно скромную, за которым мама бежала каждый раз, боясь отстать от поезда и потерять меня.
Вагоны эти называют еще скотскими. Но я с таким определением не согласен. Мне вспоминаются они как что-то уютное, а доски на четырех широких общих нарах, располагавшихся справа и слева от двери почти что пуховыми. Помню и ощущение особой - тихой радости (не найду иного слова – оно из лексикона верующих людей), царившей в эшелоне. Когда мы все, забыв на время прежние свои печали, сгрудившись у расклиненных дверей, чтобы в случае пожара люди успели выскочить на волю, разглядывали ужас разоренья родной страны, измученной прошедшею войной, глядевшей в будущее с тревогою, но и с надеждой.
Дома в Ленинграде нас не ждали – о письме и телеграмме с дороги и думать было нечего. И прибыли мы с мамой с востока из Сибири почему-то вновь на тот же самый Детскосельский «наш» вокзал, с которого почти пять лет тому назад мы уезжали с ней на запад в мирный тогда еще Бобруйск! Так что наше «путешествие» длиной почти в 5 лет, к тому же, оказалось почти что кругосветным!
Потом был трамвай «девятка», доставивший нас до угла Литейного и улицы Петра Лаврова. Утро того дня было тоже прекрасным и очень памятным. Также, как и в поезде, тепло и ярко по весеннему светило солнце. Бульвара еще не было по центру улицы, и я помню булыжник мостовой и ровные квадраты желтоватых плит пудожского известняка на тротуаре.
Дома оказалась только Ксения Павловна, с которой мы расстались в июне 41-го. Наши странствия закончились, но разлука была такою долгой, что я отвык от бабушки, и стал называть ее на «Вы». Так это и осталось на всю жизнь.
А вечером вернулся отец с работы. С Греческого пришли тоже полузабытые мной «дядя Лева» и «тетя Катя». Телефонов, как и приемника, в квартире не было. Их забирали в дни блокады и долго потом не «возвращали». Но как-то все-таки они узнали о нашем возвращении.
И был прекрасный и душевный семейный праздник! На столе была яичница из порошка на лярде - особо ароматной разновидности свиной тушенки. И это было так необыкновенно вкусно после пятилетней жизни впроголодь, что мне порою кажется, что никогда потом не ел я ничего вкуснее той первой послевоенной моей яичницы с американскою тушенкой. Она была так ароматна, что смогла отбить на время годами меня преследовавший сладковатый привкус мороженных картофельных очисток, которые мы с мамой собирали на 40-градусном морозе под забором солдатской казармы на аэродроме в Барабинске, а потом варили. Даже в студенческие годы я его еще помнил, и на гарнир старался брать лишь каши.
Но были в отношениях К.П. и мамы и ситуации со знаком минус. При всей любви к истории и старине мама старалась избавляться от вещей, почему-то ей показавшихся ненужными. На зиму К.П. уезжала в Воронеж к И.А., и, возвращаясь, порой не находила чего-нибудь из дорогих для сердца предметов. Помню, был у нее старинный комод из красного дерева с красивым зеркалом, необычным тем, что поворачивалось оно горизонтально вокруг своей оси. Однако, по увереньям мамы, в нем завелся «жучок», поэтому он предан был сожжению – «благо», что топились в Ленинграде в большинстве домов тогда дровами. Взамен же К.П. был преподнесен вполне приличный новый шкаф для белья вишневого дерева.
«Древтрест», - сказала Ксения Павловна, но огорчалась она не качеством той вещи, а утерей частички прошлого. Забавно, что, путешествуя с детьми по достопамятным местам России, в конце 1970-х мы побывали и в Спасском-Лутовинове. И там в имении И.С. Тургенева я вдруг обнаружил точную копию того комода. С таким же толстым ртутной амальгамы зеркалом, с выдвижными полками и ящичками. Прекрасно отреставрированный в музее он располагался в одной из самых главных парадных комнат.
Позже подобным образом отправлен был «в расход» отсуженный, отбитый мамой со скандалом у вороватых соседей, портрет из коллекции Н.Д. Быкова. Как сейчас, перед глазами тот старик пророк, располагавшийся в большой покрытой бронзой овальной раме с измученным лицом, наполненным страданием, и воздетым к небу тоскливым взором. Правда, на голове у старика, была какая-то нелепая, напоминавшая плетеную корзину, шляпа - «каскетка».
И вот однажды, возвращается К.П. из очередной поездки к дочери – нет пророка! «Надоела мне эта постная библейская физиономия! Куда ни повернешься, отовсюду натыкаюсь на него, - объясняет мама причину своих «действий». – Поэтому и отнесла его я на помойку, поставила под аркой заднего двора!».
Слава богу, не подвергся пророк сожжению. И нашлись, надеюсь, «ценители», располагавшие «нормальной» жилплощадью, которые отдали должное высокому искусству и подобрали «ветхозаветный» сей шедевр, не взятый в свое время на продажу комиссией Торгсина. Но, если честно, я тоже не очень преклонялся перед страданием старца. Стрелял в его каскетку из рогатки, заряжая ее «по-умному» бумажной пулькой, не пробивавшей холст и особого вреда ему не причинявшей.
К.П. долго сердиться не умела. И, конечно же, они мирились, живя общей заботой о семье и доме. Мирили также их и поездки на «наше» ленинградское Новодевичье кладбище, где вместе дружно прибирали они могилы, отмывая гранит и мрамор до чистоты и блеска.
Брали с собою и меня. Ездили 25–м трамваем, шедшим за Московскую заставу напрямую от Петра Лаврова, но в дороге я иногда «терялся». Так что уже вдвоем им приходилось следить за состоянием целого «квартала» наших родственников, располагавшихся при входе сразу за могилой великого поэта Н.А. Некрасова. Дед Л.А. «благоевец» П.П. Шатько, академик М.С. Воронин, жена его Анна Романовна Дебагорий, взятая Гончаровым в качестве прототипа одной из девушек в романе «Обрыв». Сестры М.С. Воронина, выданные им за князей Щербатских, и члены их семей. Так и не дождавшаяся своей хозяйки, скончавшейся в эмиграции в Танжере, пустая могила Веры Михайловны, бабушки Л.А. – ее мы тоже непременно чистили и прибирали.
Следили мы не только за «своими», но за соседними могилами - строитель и украшатель Исаакиевского собора академик архитектуры Н.П. Басин, художник «мир-искусник» Александр Головин («Испанка на балконе», Шаляпин в роли Годунова – незабываемые, великие его работы), поэты Майков, Тютчев. Иногда ходили и в дальний конец кладбища - к Боткиным, к Михаилу Врубелю, поэту Константину Фофанову, к композитору и дирижеру Направнику.
В нашем доме № 43 жила тогда певица меццо-сопрано из Кировского театра Людмила Грудина с двумя очаровательными дочками. К.П., обнаружив однажды, что прекрасное надгробие на могиле Эдуарда Францевича Направника начинает рушиться, отправилась к семейству Грудиным, чтобы непременно передали они в Маринку - необходимы меры по его спасению! Жила певица на четвертом этаже в дворовом корпусе, и подниматься к ней К.П. было совсем непросто - после блокады она стала сильно прихрамывать. Такое вот отношение к жизни, к «культурному наследию» своей страны было у матери Л.А.
Казалось бы, простое дело присматривать за кладбищами. Но, сколько их у нас в России запущено, разграблено. И сколько вообще потеряно. Даже на петербуржских кладбищах сплошное разорение - украдены кресты, разбиты плиты, разворочены надгробия высочайшей художественной ценности, разломаны великолепные решетки от фирмы Карла Винклера.
К сожалению, лишь часть «наших» могил – и то с невероятными усилиями мне удалось спасти и сохранить. А могила академика М.С. Воронина как выдающегося деятеля науки была поставлена КГИОПом на государственную охрану. Но, увы, исчезли – уничтожены прекрасные надгробия семьи Щербатских и А.Р. Ворониной-Дебагорий.
Интерес к истории семьи, к истории России разбужен был во мне бабушкой Оксаной. Культ предков, почитание умерших, – основа нравственного воспитания цивилизованных, а тем более нецивилизованных народов. Зайдите в художественно-исторический музей Иркутска. Посмотрите на имеющую мировую известность его коллекцию восточного искусства - у китайцев, например, почитание предков – целая философия.
И у нас в России, как сказано у Пушкина, «любовь к отеческому дому, любовь к отеческим гробам» прививалась детям с малолетства. И не только к умершим у себя на родине. Ибо, «не душу, лишь небо меняют в заморских чужбинах скитальцы!». Одинокие забытые могилы русских эмигрантов – сколько их разбросано по миру - в том же в Китае, в Европе, Америке, в Австралии, даже в Африке! Русские, умершие за пределами России, любили свою страну, как очень точно определено у Лермонтова «особою любовью, которую не победит рассудок!».
Бывая за границей по работе или в отпуске, после заседаний или после моря и пляжа найдите «пару» часов, разыщите русское кладбище, сделайте доброе дело. Подправьте, если позволяет здоровье, хотя бы, несколько «наших» русских могил. Положите на камень, под которым покоится наш с Вами соотечественник хотя бы веточку или полевой цветок. И Вам воздастся!
Есть и у нас своя вина – мы потеряли могилу Елизаветы Александровны Ухтомской, бабушки Л.А. – еще одной прекрасной русской женщины, хранившей историю семьи и рода Мелентьевых – Ухтомских – Юлиусов - Лютеров и передавшей это знание К.П. - свое невестке. Потеряли не из-за дальности поездок на православное Смоленское кладбище или вековечных проблем «свекровь – невестка». Побаивались! И были мы не одиноки в этом грехе и страхе.
В «оправдание» расскажу, как отмечался столетний юбилей Главной геофизической обсерватории, в которой я проработал 20 с лишним лучших лет. Торжества по всей стране - в память о заслугах великого климатолога Александра Ивановича Воейкова ГГО присваивается его имя. Дирекция посылает приглашения на празднества его потомкам, родственникам. Но не пришел никто! На дворе «стоял» 1949 год, и юбилей был не только у обсерватории, но и у «товарища Сталина». И опыт «подсказывал: сегодня они «свои» на празднике ученых, а завтра все может сделаться совсем наоборот. Ведь, и в те годы страною правили совсем другие – «неученые» люди.
В связи с этим хочу вспомнить и о нашей «не пропавшей Дворянской Грамоте». Как уже рассказывалось в первом очерке, большинство семейств, составляющих род Мелентьевых, были отмечены дворянством при Екатерине Великой и в начале Х1Х века, но официальных бумаг не сохранилось. Иметь такие документы, которые выдавались за воинскую доблесть, честный труд и ратный подвиг было, конечно же, почетно. Однако держать их в доме в те времена было «чревато», и все это уничтожалось.
Поэтому спасение Грамоты семьи Мелентьевых явление исключительное. Была княгиня Елизавета Александровна Ухтомская, не изнеженной и «тонной» барыней, а русской женщиной, спасавшей символ чести рода ее мужа. После революции, предчувствуя грядущую опасность, Е.А. решила спрятать Грамоту и зашила ее в куклу любимой старшей внучки Ирины. Пространная бумага с печатью, подписанная Губернским Предводителем Дворянства и Уездными Дворянскими Депутатами от главных городов Ярославской губернии, исполненная на тонкой телячьей коже, прекрасно обработана. Однако избавиться от шуршания и хруста при перегибах и прощупывании сложно.
И, конечно же, в ОГПУ было хорошо известно о «кукольном методе» укрывательства вещей и драгоценностей. Золота и бриллиантов у Е.А. не было и во времена более благополучные. На скромную военную пенсию за рано умершего мужа поднимала она одна шестерых детей – пятерых своих и шестого приемного.
Отмечу здесь же, что брать на воспитание «чужих» детей - это отличительная черта русского «человеколюбивого» общества конца Х1Х – начала ХХ века, еще не озлобившегося последующими войнами и революциями. И эта черта характерна не только для интеллигенции, но и для рабочих и крестьян. Вспомним, к примеру, приемного сына мещан Бессеменовых революционного пролетария Власа, одного из главных действующих лиц пьесы Горького «Мещане». В семье Мелентьевых-Ворониных-Шатько-Быковых-Ухтомских также издавна существовала традиция усыновления и удочерения детей, оставшихся без родителей. Это «золотое» правило работало и действовало, как в отношении родных, так и неродных людей.
Всем известны у нас в России больница Боткина в Москве, боткинские холерные бараки и памятник Сергею Петровичу Боткину работы Беклемишева в Санкт-Петербурге. В нынешнем пост-коммунистическом российском обществе не менее известно и имя его сына - Евгения Боткина, поистине святого человека, взошедшего на эшафот вместе с семьей последнего русского монарха. Большевики, расстрелявшие без жалости малолетних детей царя Николая II, не обнаруживая за доктором Боткиным «прегрешений» против устанавливаемой ими в стране коммунистической системы, как известно, отпускали его «на свободу». Так вот женой этого замечательного человека, – «новомученника», добровольно принявшего смерть и канонизированного ныне русской православной церковью была Ольга Владимировна Быкова (Мануйлова). Внучка художника Н.Д. Быкова, оставшаяся сиротой, воспитывалась в семье академика М.С. Воронина, большого друга Сергея Петровича Боткина. А трое детей доктора Евгения Боткина росли вместе с Ксенией Павловной - матерью академика Льва Александровича Мелентьева – и оставили об этом времени свои воспоминания.
Однако вернемся к рассказу о бабушке Лизе Ухтомской. Пенсии на воспитание шестерых детей, конечно, не хватало, так что «подрабатывала» она шитьем и рисованием. Поэтому и с куклой внучки справилась совсем неплохо. С обысками приходили не однажды. А в 1930-м – первый арест отца Л.А., искали особенно строго. «Профессионалы сыска» ходили по квартирам, но Грамоты не обнаружили!
Страх, безусловно, был. Но главным было сознание, что это нужно сделать. Именно ей - хранительнице «очага», старшей в доме не только лишь по возрасту! Но вот и результат – спасенная Дворянская Грамота семьи Мелентьевых в моих руках! Телячья кожа, огромная сургучная печать, причудливые завитушки старомодных подписей! И мало у кого в Санкт Петербурге, наверное, имеется подобная реликвия. Двуглавый орел, вензеля, короны, медведь как символ Ярославля, венки и ветви дуба, розетки, ленты! Как знаки рыцарских отличий, знамена, шлемы, шпаги, алебарды, щиты, кирасы, трубы, барабаны, колчаны стрел! Мелентьевы по большей части были моряками, поэтому отдельно, как символ русской славы на морях, секстан и глобус, навигационные приборы, измерительные инструменты – линейка, циркуль, транспортир. Уникальный документ – история России!
И все же, представьте, риск того своеобразного сопротивления власти! А если бы нашли? Миндальничать с княгиней Елизаветой Александровной Ухтомской не стали. Не посчитались бы ни с годами, ни с мужними заслугами. А если бы вдруг девочка проговорилась? Какой же молодчиной оказалась внучка Е.А. - Ирина Александровна Мелентьева, сестра Л.А., будущий заслуженный архитектор России, которой предстояло в 1941-м пройти и испытания войной, блокадой, голодом.
<-- Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница -->
| На главную | К другим публикациям | В начало страницы |